«Радуга» — чёрно-белый художественный фильм режиссёра Марка Донского о Великая Отечественная война, экранизация одноимённой повести Ванды Василевской рассказывает о героической борьбе советских патриотов, жителей украинского села Нова Лебедивка, против гитлеровских оккупантов.
ПРОИЗВОДСТВО: Киевская киностудия, 1943 год
СОЗДАТЕЛИ ФИЛЬМА:
Автор сценария Ванда Василевская
Режиссёр-постановщик Марк Донской
Режиссёр Рафаил Перельштейн
Оператор Борис Монастырский
Художник Валентина Хмелёва
Композитор Лев Шварц
В ролях:
Наталия Ужвий — Олёна Костюк
Елена Тяпкина — Федосья
Валентина Ивашёва — Ольга, учительница
Нина Алисова — Пуся, сестра Ольги, жена лейтенанта Кравченко, любовница коменданта
Антон Дунайский — дед Евдоким Петрович Охапка
Анна Лисянская — Малючиха
Ганс Клеринг — комендант Курт Вернер
Николай Братерский — староста Петро Гаплик
Владимир Чобур — лейтенант Сергей Кравченко
Витя Виноградов — Мишка, сын Малючихи
Алик Летичевский — Сашка, сын Малючихи
Вова Пономарёв — младший сын Малючихи
Эмма Перельштейн — дочь Малючихи
Елизавета Хуторная — Грохачиха
Аполлон Осенев — символический Гитлер

1.jpg)



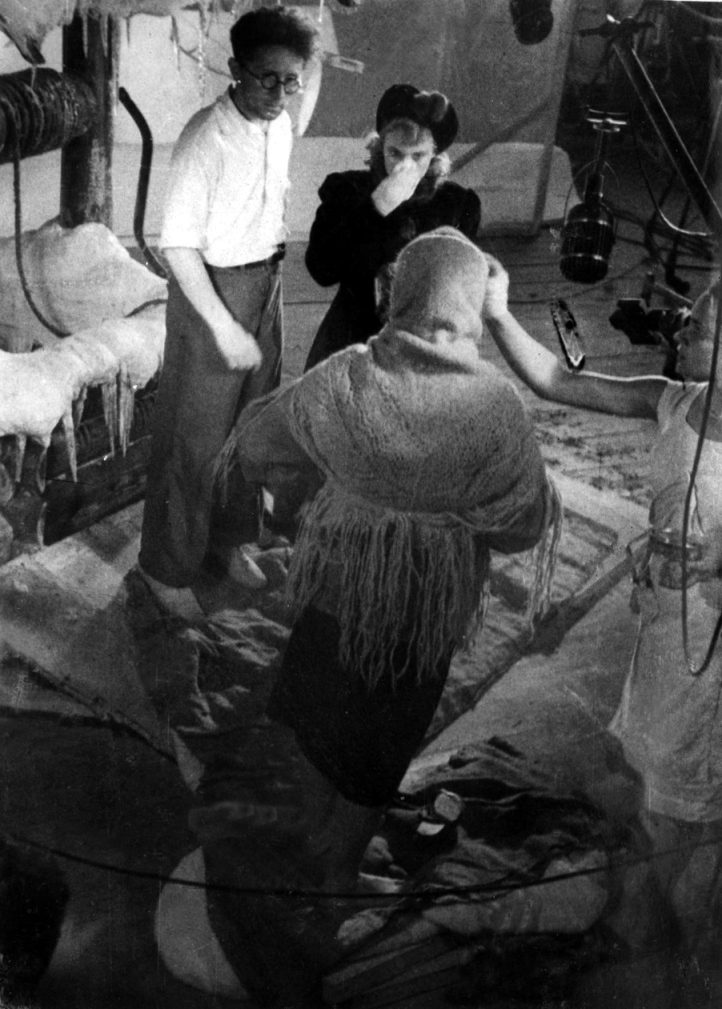

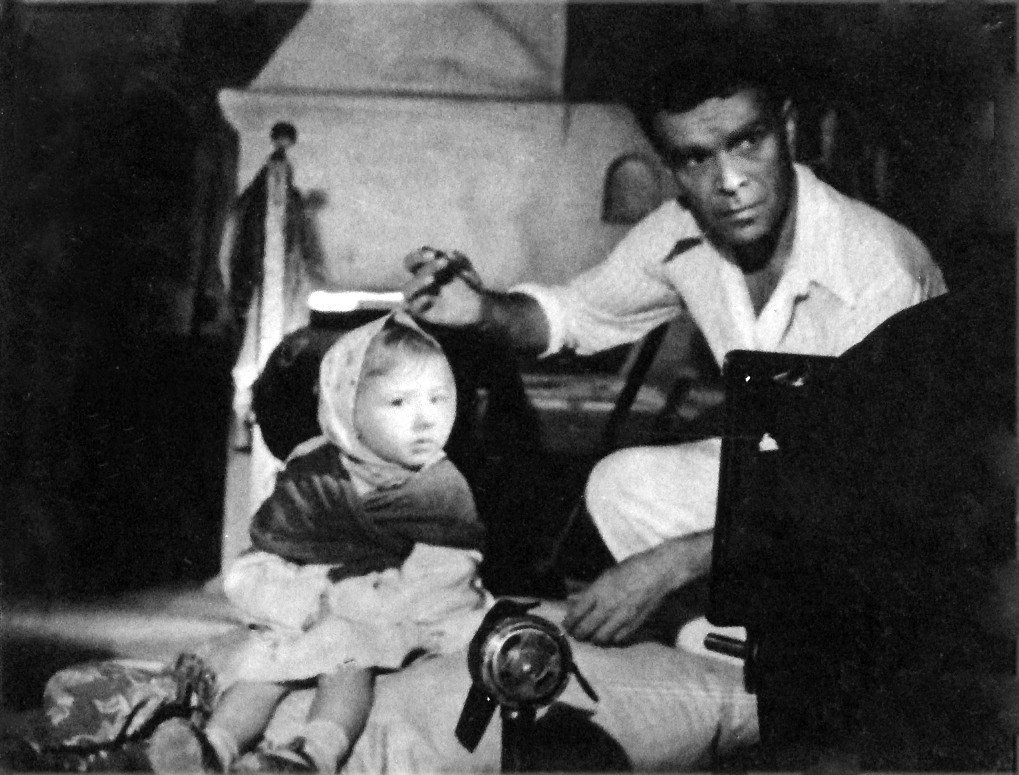
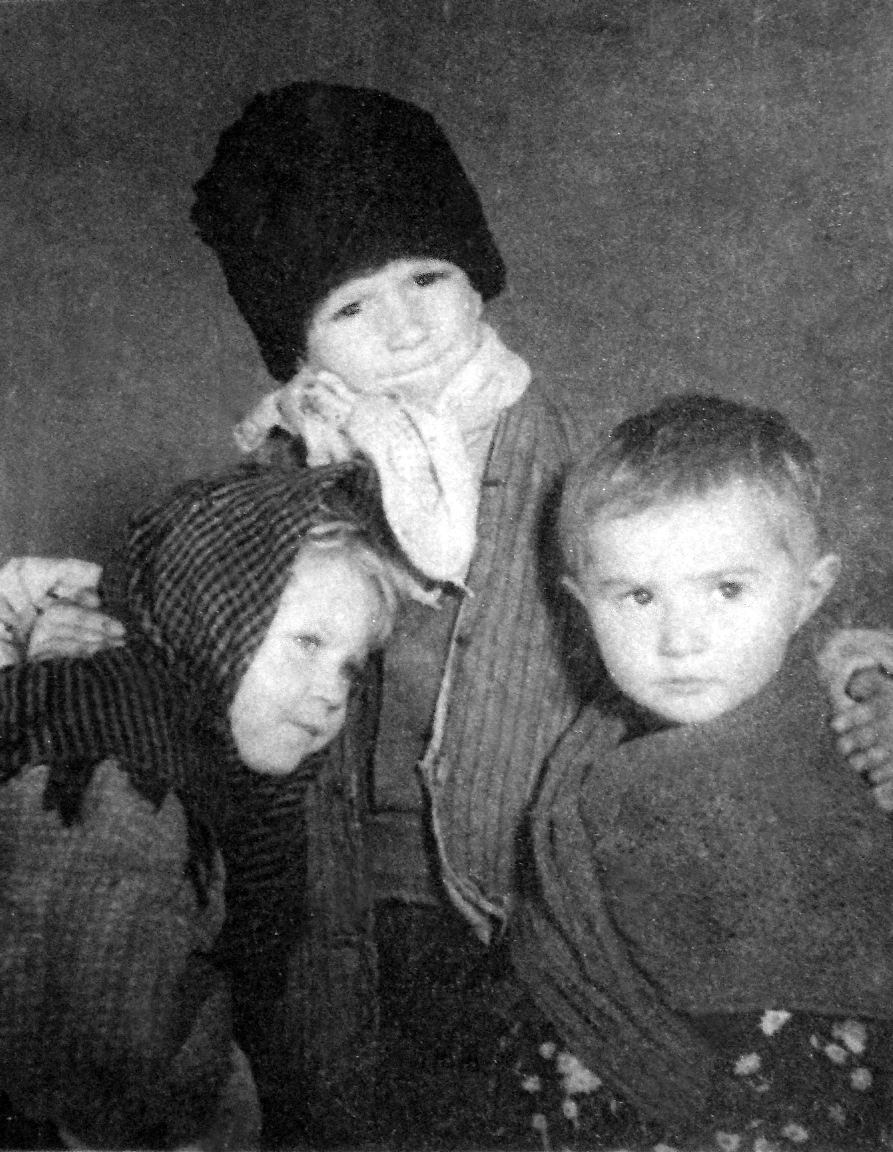






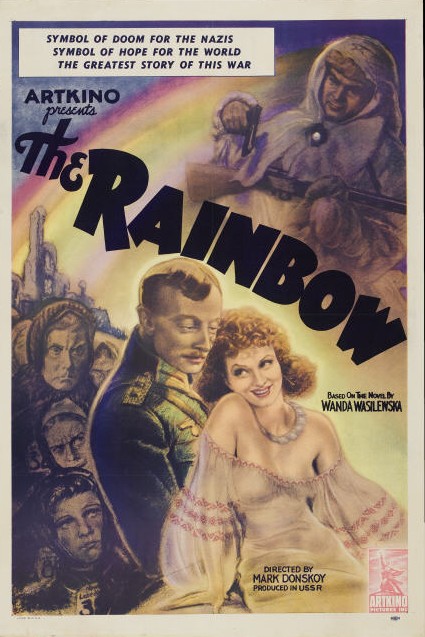

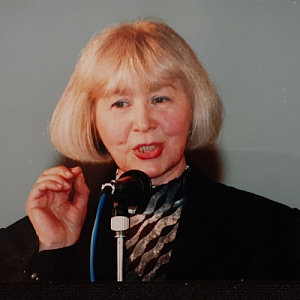
.jpg)


.jpg)
